
Из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» 1999:
Тарковскому «Дворянское гнездо» резко не понравилось. Правда, к следующей моей картине — «Дяде Ване» он отнесся весьма одобрительно, но все, что я делал вслед затем -и «Романс о влюбленных», и «Сибириаду», и мои американские картины, — не воспринимал всерьез.
Последние годы, время создания четырех его последних картин, мы практически не общались. Наши творческие позиции разошлись до степеней, уже непримиримых. Наверное, это типично русская черта — чрезмерность. Хотя, казалось бы, что делить? Всем хватит места на земле.
Я отвечал Тарковскому подобным же неприятием. Считал претенциозными и «Ностальгию», и «Жертвоприношение». Считал, что он больше занят поиском себя самого, чем истины. Он чем-то напоминал мне ту самую розановскую вдову, смотрящуюся на себя в зеркало. Даже желание сохранить раз найденный стиль, казалось мне, подавляло смысл его фильмов. Конечно, это субъективно.

Быть объективным мешают мне долгие годы, связавшие нас дружбой, совместной работой, соперничеством, ревностью. Мешают и постоянные сомнения: каждый, наверное, подвержен им в оценке людей, мотивировок их поступков. Прежде всего я имею в виду фильмы: они и есть главные поступки режиссера. Думаю, не один я — все, кто пишет о нем сегодня, в большей или меньшей мере предвзяты.

Правда, есть и критерии вполне объективные — к примеру, отзывы, которые он получил на Западе. Там отношение к нему было гораздо менее подвержено влиянию партийных схем. И оно свидетельствует, что Андрей потряс устоявшиеся основы, поставил себя в ряд истинных художников.

Бергман считал Тарковского единственным из режиссеров, кто проник в мир сновидений. Тот мир, который Бергман лишь интуитивно нащупывал, Тарковский сумел воплотить в кино. Большей похвалы Андрей не мог и ждать. Он глубоко ценил каждое бергмановское слово о своих картинах. Правда, Бергман сказал и то, что последние картины Тарковский снимал уже «под Тарковского», — но это написано, когда Андрея уже не стало.

Продюсер Катинка Фараго (Швеция) о взаимовлиянии режиссеров 2018:
Вне всякого сомнения, Бергман действительно восхищался Андреем. И передал нам это чувство. Во время съемок Бергман устраивал для своей съемочной группы что-то вроде киношколы. Каждый вторник вечером он показывал нам кино — два полных метра, потом два коротких. Это был очень длинный сеанс (смеется). И так по его настоянию мы посмотрели всего Тарковского.

Помню, когда стало понятно, что Андрей будет снимать в Швеции, Бергман был полон энтузиазма. Потом его чувства слегка изменились. После картины «Фанни и Александр» Бергман решил, что больше не будет снимать кино. Почти всю его группу Тарковский взял к себе на «Жертвоприношение». Это были, например, актер Эрланд Йозефсон, оператор Свен Нюквист, а также звукорежиссер, художник-постановщик, художник по костюмам и т.д. Я в том числе. И Бергман серьезно нас приревновал. «Это конец», — заявил он мне на полном серьезе. Это было настолько глупо и по-детски, что я рассмеялась.

— Что было самым сложным в работе с ним?
— Главная сложность была в том, что он был очень русским (смеется). Это не в обиду сказано. Просто реалии нашей киноиндустрии сильно отличались от того, к чему он привык. Например, Андрей долго подозревал в жульничестве едва ли не каждого, кто отвечал за финансы. Был и такой эпизод. Предстояла трудная сцена, которую Андрей хотел снять одним кадром. Смена уже должна была закончиться, однако никто не приходил. Группа вернулась только через несколько часов. Я спросила: «Чем вы все это время занимались?» — «А это режиссер приказал нам вручную убирать выпавший снег». Вне себя я пошла к Тарковскому, чтобы выяснить, зачем он это сделал — ведь можно было просто заказать трактор. На это Андрей ответил мне, что машина стоит денег…

Из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» 1999:
Первым толчком к расхождению стало сомнение в том, что он правильно работает с актерами. На съемках «Рублева» он так заталдычил им головы своими рассуждениями, что они уже перестали понимать, как и что делать. Я говорил ему:
— Ты можешь объяснить по Станиславскому, чего от них хочешь?
…Андрею принципы Станиславского были вполне чужды. Своими разговорами он был способен довести любого актера до полного изнеможения. Происходило это, на мой взгляд, потому, что склад его ума был не аналитический, а интуитивный. Ему трудно было объяснить желаемое актеру, точно так же, впрочем, как и сценаристу.

Работая над сценарием «Рублева», мы с ним поехали в Грузию. Ночью шли, разговаривая, по дороге, и он все повторял:
— Вот хотелось бы, понимаешь, как-то эти лепесточки, эти листики клейкие… И вот эти гуси летят… «Что же он хочет?» — спрашивал я себя.
— Давай говорить конкретнее. Давай подумаем о драматургии.
А он все лепетал про лепесточки и листики, среди которых бродила его душа. Но писать-то надо было действие.
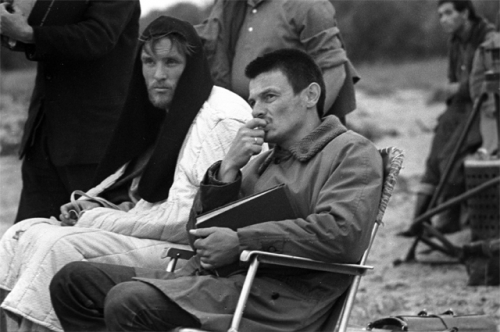
Из дневника Андрея Тарковского «Мартиролог»:
15 августа 1971
Плохую службу сослужил Станиславский будущему театру — такую же, приблизительно, как Стасов живописи. Эта идейность, так называемое «направление», как писал Достоевский, — все это подменило и задачи, и смысл искусства.

18 февраля 1972
Я еще ни разу не видел сцены — ни одной — в актерском исполнении, где бы не было одной и той же ошибки: сначала «оценить», а затем подумать и уж потом только сказать. Страшное, противоестественное рассиживание, отсутствие мысли, состояния, невозможность мыслить непрерывно и произносить слова ради мысли, а не ради самого слова. Этакая последовательность вместо одновременности слова, дела, мысли и состояния души. Всё вместе это называется русской актерской школой, кажется. В этом самая глубокая ошибка, неправда и ложь.
Из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» 1999:
Часто говорят о духовности его картин, о пронизывающем их нравственном идеале, об их религиозности. Оттенок их религиозности, как мне кажется, показывает существо проделанной им эволюции от культуры русской, православной, основанной сугубо на чувстве, к культуре западной.
В своем искусстве он становился все более католиком, даже .протестантом, чем православным, сколь это перерождение ни странно для него. «Если я говорю голосом ангела или дьявола, а любви не имею, то слова мои — медь гремящая и кимвал бряцающий» — это библейское изречение мы вложили в уста Андрея Рублева. От этой чувственной любви Тарковский все более уходил к любви духовной. Душу у него заменил дух. Душа — начало женское, теплое, согревающее, колышащееся, робкое. Дух — начало мужское. Он -стекло (хочется сказать по-старославянски — сткло) и лед.

Тарковский не одинок в этом движении. Мне кажется, он продолжает целый ряд великих русских, уходивших в своем духовном развитии от православия, — Чаадаев, Печерин.
Печерину принадлежат строки: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья». Он принял католицизм и уехал на Запад. Кстати, Лермонтов не случайно дал своему герою фамилию Печорин — в нем черты Печерина, уставшего от родной страны человека.

Из дневника Андрея Тарковского «Мартиролог»:
3 мая 1980. На пути в Loreto, Portonovo Boschetto
Удивительный случай произошел со мной сегодня. Мы были в Loreto, где Франко Терилли молился своему патрону — одному из покойных пап. В Loreto — знаменитый собор (вроде Лурда), в середине которого находится дом, перенесенный из Назареи — дом Марии, где родился Иисус. Когда я был в соборе, мне показалось обидным, что я не могу помолиться в католическом соборе, не то что не могу, но не хочу. Он чужой мне все-таки. Потом мы случайно попадаем в маленький приморский городок Portonovo, в старый маленький собор X века. И на алтаре я вижу вдруг Владимирскую Божию Матерь. Оказалось, что когда-то некто русский художник подарил церкви эту копию, видимо, сделанную им, Владимирской Божией Матери. Подумать только! В католической стране совершенно неожиданно увидеть в церкви православную икону после того, как я подумал о невозможности молиться в Лорето. Это разве не чудо?

9 мая Рим
Ночевали на даче у Франко и Джулии в Boschetto. Приснился странный сон. Когда я проснулся, очень хорошо его помнил и определенно ощутил, что его следует толковать в самом хорошем смысле. С тем и заснул снова. А когда проснулся совсем, уже его не мог вспомнить. Помню, что в связи с Владимирской Божией Матерью Что-то. И очень хорошо.

10 мая Рим
Прошлой ночью мне приснилось, будто я проснулся в незнакомом месте, на земле, где я спал вместе с мамой. Какой-то полузнакомый деревенский пейзаж. Я подошел к ручью и умывался. Я совершенно не понимаю, как я здесь очутился. Мама же говорит, что я накануне выпил лишнего, поэтому и не помню, как сюда попал. Странный сон… Уж не к смерти ли моей? Господи, помоги!

Из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» 1999:
Помню, после «Зеркала» мы вышли из зала с критиком Гастевым. Нам обоим картина не понравилась, он припомнил фразу Андре Жида: «Когда искусство освобождается от всех цепей, оно становится прибежищем химер». Это закономерно: у кого-то картина вызывает возмущение, у кого-то — приятие, у кого-то — обожание, у кого-то — шок. Работы большого художника вовсе не должны приниматься всеми и однозначно.

Возможно, в Тарковском есть что-то, мне недоступное. Даже завидую тем, кого его картины потрясают. Сам факт, что его творчество производит такой эффект, что оно так влиятельно в среде молодых режиссеров, уже говорит о его значительности. Бунин говорил об «Анне Карениной», что из нее неплохой бы роман мог получиться, вот только надо слегка почистить. Для меня картины Тарковского слишком длинны, им недостает чувства меры, надо бы их перемонтировать. Они как прекрасная музыка, исполняемая слишком медленно. Сыграйте соль-минорную симфонию Моцарта, замедлив раза в три. Никогда не мог понять, зачем Андрею такая медлительность. Но он неизменно был уверен, что именно такой ритм и создает нужное восприятие.

Музыка — не один ритм, а смена ритмов. Андрей, мне казалось, насилует саму природу восприятия. Может, я ошибаюсь, может, меня преследует страх посредственности, человека, не чувствующего в себе одержимости таланта сломать все барьеры. Может быть, Андрей достиг, говоря словами Шкловского, головокружительной свободы, а мне она не дана.

Из дневника Андрея Тарковского «Мартиролог»:
21 апреля 1973
Может быть, ответить кому-нибудь на ругательное письмо по поводу «Зеркала»? А зачем? Чтобы убедить неграмотного, низко чувствующего человека, что он неправ? Чтобы доказать себе, что я прав? Для того, чтобы воспитать кого-то? Все это не мое дело. А мое дело — заниматься тем, что Бог дал, несмотря на ругань. Во все времена была ругань, темнота, снобизм. Я не думаю о себе слишком восторженно — просто надо нести свой крест. А была ли это насмешка, или я был прав — время укажет.
Толстого не может читать и любить человек эгоистический. Толстой враждебен ему. Правда, он может, обманывая себя, думать, что только он понимает Толстого.

21 декабря 1978
Боже, какая простая, даже примитивная идея-время. Да это простой способ дифференцировать материально и соединить единовременно наши существа, ибо в материальной жизни ценятся синхронные усилия отдельных людей. Время — лишь способ общения, в него завернуты мы словно в кокон, и ничего не стоит сорвать эту вату веков, окутывающую нас, с целью получить общие, единые и единовременные ощущения.

Я знаю, что далек от совершенства, даже более того, — что я погряз в грехах и несовершенстве, я не знаю, как бороться со своим ничтожеством. Я затрудняюсь определить свою дальнейшую жизнь, я слишком запутан теперешней жизнью своей.
Я знаю лишь одно — что так жить, как я жил до сих пор, работая ничтожно мало, испытывая бесконечные отрицательные эмоции, которые не помогают, а наоборот, разрушают ощущение цельности жизни, необходимое для работы — временами хотя бы, нельзя больше. Я боюсь такой жизни. Мне не так много осталось жить, чтобы я мог разбазаривать свое время!
Вера и искренность при «разговоре» с будущим зрителем — вот единственный критерий этих отношений. Других нет и быть не может

Звонил какой-то «неизвестный» (Лариса говорила) и заявил, чтобы я «не хамил» в адрес С. В. Михалкова. Что за притча? То ли он жертва сплетни, то ли провокатор.
Единственное — я на последней встрече рассказал о том, как некоторые обивают пороги начальства и просят званий и орденов. М. б., «на воре шапка горит»? Но никаких имен я, конечно, не называл.

29/30 сентября Ночь 1986 (за три месяца до смерти)
Приснился уголок милого монастырского двора с огромным вековым дубом. Неожиданно замечаю, как в одном месте из-под корней вырывается пламя, и я понимаю, что это результат множества свечей, которые горят под землей, в подземных ходах. Пробегают две перепуганные монашки. Затем пламя вырывается на поверхность, и я вижу, что гасить поздно: почти все корни превратились в раскаленные угли. Я ужасно огорчен и представляю это место без дуба: какое-то ненужное, быссмысленное, ничтожное.



















